О плате за талант, битвах предков и трагической судьбе олонхосута
В 2018-2019 годах в Верхневилюйском улусе работала фольклорная экспедиция НИИ Олонхо СВФУ. В результате стали известны имена более чем 120 олонхосутов, хотя изначально учёные располагали сведениями примерно о сорока из них, как рассказала нам старший научный сотрудник института, кандидат филологических наук Гульнара Саввинова-Отова.
Плата за дар
Чаще всего информаторы упоминали о Никите Семёновиче Александрове — Ынта Микиитэ, человеке удивительного дара и трагической судьбы, что среди олонхосутов не редкость.
Родился он в 1874 году в Дюллюкюнском наслеге. С малых лет отличался любознательностью и непоседливым нравом, и никого особенно не удивило, когда в юности, работая на пашне, парень в один прекрасный день взял да и ушел. Куда — не знал никто.
Вновь земляки увидели его уже стариком — многое пережившим и потерявшим все, кроме данного свыше дара.
Оказалось, молодость его прошла на Бодайбинских золотых приисках, позже он перебрался в Олекму, где женился и где родились его дети. А потом, подхватив дочку с сыном, они с женой подались в Якутск.
Со своим даром олонхосута, запевалы осуохая, народного певца Ынта Микиитэ был заметным и в городе, и когда в Якутском театре приступили к постановке «Красного Шамана», его позвали на главную роль. Он, не ведая, чем это для него обернется, согласился.
Шамана он сыграл, но настолько вошёл в образ, что грянула расплата: умерла пятилетняя дочь. На склоне лет Никита Семёнович сам говорил об этом. А когда началась война, на фронт ушел сын и погиб, парню и двадцати не было.
Что там после этого произошло с женой, доподлинно неизвестно, но на родину после войны он вернулся один. Было это уже в 1950-е годы, а умер он лет через десять.
Дыхание старины
Но это его последнее десятилетие на родине — каким оно было насыщенным!
Запомнили его как удачливого охотника: Баай Байанай никогда не обделял его своими дарами. И как олонхосут, запевала и алгысчит он пользовался повсеместным уважением и почтением, причем не только среди обычных людей.
Шаманы, чьих имён нельзя упоминать всуе, тоже отдавали ему дань уважения и слушали его, но всегда наедине, без лишних глаз и ушей. Говорили, что потом они использовали услышанное в своих обрядах: у него была совершенно особая энергетика.
В олонхо, запевах и алгысах Ынта Микиитэ было много давно забытых, архаичных слов, мотив и мелодика также сильно отличались от привычных, и это была не хорошо известная фольклористам разница между вилюйскими, сунтарскими и заречными мотивами — это было дыхание седой старины.
Когда в Верхневилюйском народном театре ставили «Нюргуна Боотура Стремительного», его позвали на роль богатыря абаасы. Он согласился. Это ведь олонхо, а вся его жизнь — служение ему. Да и терять было уже нечего.
Те, кому посчастливилось посмотреть в детстве этот спектакль, помнят его выходы так ярко, как будто это было вчера. Хорошо знакомый им старик словно исчезал: всякий раз это было жуткое явление настоящего исчадия Нижнего мира, и было оно таким зловещим, что кровь стыла в жилах…
Народное достояние
Фольклористы успели записать одно олонхо Никиты Семёновича Александрова — Ынта Микиитэ — «Кер Буурай».
Сотрудники Института Олонхо и кафедры якутско-русского перевода Института языка и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ перевели его на русский.
Во время Ысыаха Олонхо в Верхневилюйске состоится презентация книги, вышедшей на двух языках.
Гульнара Саввинова-Отова рассказывает:
— Первая запись олонхо Никиты Александрова «Кер Буурай» сделана в 1925 г. Г.Тороповым.
Запись эта короткая, дано было лишь содержание.
Вторую в 1940-х годах осуществил И.Григорьев, который не был фольклористом — кандидат физико-математических наук, он сначала преподавал в Московском инженерно-физическом институте, потом стал там заведующим кафедрой.
Поэтому олонхо было записано, можно сказать, с математической точностью, хотя предполагается, что отдельные моменты были все же пропущены.
Олонхо «Кер Буурай», состоящее из 13 тысяч строк, относится к олонхо среднего объема.
Сюжет его вполне каноничный: Кер Буурай должен спасти похищенную девушку и 130 богатырей айыы, которых держит в плену богатырь абаасы Верхнего мира Кюдюк Кенче Беге.
Когда Кер Буурай собирается выступать в свой поход, его брат Алтан Джэргэли пытается удержать его дома, но, поняв, что уговоры бесполезны, выдвигает последний аргумент: мол, если попадешь в беду, я не приду к тебе на выручку.
Кер Буурай не слушает его, устремляясь навстречу битвам, которые его ждут.
Он выходит победителем
из поединка с богатырём абаасы Есех Джигискэном, не поддается на уловки женщины абаасы Джэгэ Бааба Джэс Хотообо (чуть, правда, в них не угодив), но, добравшись до страны Кенче Беге, не сражается с ним, а сдается в плен, преследуя, впрочем, определенную цель.
Цель эта — понять, насколько могуч и могущественен его брат Алтан Джэргэли. И он не ошибается в своих предположениях: прознав о его беде, брат, вопреки тому, что говорил при прощании, мчится ему на выручку.
Алтан Джэргэли вызывает на бой Кенче Беге, и начинается жаркая схватка: в пылу битвы соперники оказываются то в преисподней, то у подножия горы под названием Тумпаак.
Потерпев поражение, Кенче Беге проклинает своего противника:
«В будущем скором,
В грядущем завтра,
Когда сын твой старший
Стрелу держать будет,
А дочь любимая
Ножницы держать будет,
Когда младший подрастет…
Так же, как ты меня погубил,
Остроконечным кончить,
На островерхий посадить,
С острием познакомить
Уж сумею, ребята!»
В этих словах — правда о вековечных нескончаемых сражениях, которые были вынуждены вести наши предки, чтобы выжить, чтобы продолжить свой род.
Сейчас, сохраняя и развивая их наследие, мы показываем миру, что все это было не зря. Они выстояли. Они победили.
Фото предоставлено Гульнарой Саввиновой-Отовой.


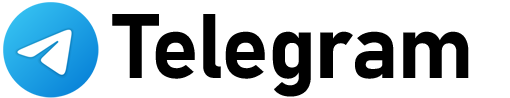
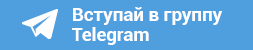
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: